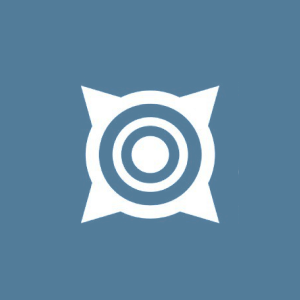Главное дело его жизни
Танкист Леонид Кызласов
21 июня 1941 года отгулявших ночь, полных надежд на будущее выпускников абаканской школы № 1 встретила весть о войне. Юноши-одноклассники в тот первый внешкольный день вновь встретились — у областного военкомата.
Томск как начало
Леониду Кызласову было 17 лет, и в призыве ему отказали. Решено было продолжить образование. Аттестат и заявление о допуске к вступительным экзаменам были отправлены в Горный институт Ленинграда, и оттуда пришёл официальный вызов. Но доехать абитуриенту удалось только до Новосибирска, где старый мудрый кассир отказался компостировать билет юноши, ехавшего на запад, откуда уже приходили эшелоны с беженцами. Расхвалив «наш сибирский университет» в Томске, добрый человек туда и переоформил билет разобиженного парня. Именно с лета 1941-го в Томском госуниверситете стало работать археологическое отделение историко-филологического факультета, куда и поступил Кызласов. Учебный год был для первокурсников тяжёлым: студенты привлекались к строительству железной дороги, уборке хлеба на полях, литью минных корпусов на оборонном заводе. Расплачивались с ними хлебом и рабочими карточками — осенью в Томске начался голод, усилившийся к 1942 году. Иногородние студенты разъехались по домам, и зимою Леонид остался в холодном общежитии один, но декан факультета Зоя Яковлевна Бояршинова регулярно навещала его.
Парень учился с наслаждением, до ночи засиживаясь в богатой книгами Научной библиотеке ТГУ (тетради со сделанными там многочисленными выписками стояли в московском кабинете учёного и использовались до конца жизни). В феврале 1942 года он лишь единожды выезжал домой — на похороны 39-летней матери... Сдав летнюю сессию, студент вернулся в Абакан, где на руках бабушки и деда оставались его сестра-подросток и малолетний брат.
Учёба танковой науке
Достигший 18 лет Леонид Кызласов был мобилизован в Рабоче-крестьянскую Красную армию в сентябре 1942-го. На сборном пункте в Бердске (под Новосибирском) офицер-танкист, отбиравший призывников для своего рода войск, на общем построении скомандовал: «Трактористы и студенты — шаг вперед!» Такой выбор понятен — трактористы уже знали технику, а студенты были способны быстро её освоить. Так первокурсник ТГУ стал курсантом 4-го отдельного учебного танкового полка Сибирского военного округа, расположенного в военном городке Омска, в землянках близ старых кирпичных казарм Первой мировой войны. Вероятно, лёгкий характер и успешная учёба курсанта Кызласова привели к дружбе с ним одного из офицеров полка — Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Шпигунова, в боях 1941 года потерявшего руку. Иван Михайлович предлагал оставить Леонида в учебном полку инструктором, но юноша, конечно, не захотел. Но сохранил в боях и походах подаренную командиром фотографию с тёплой надписью.
В ноябре 1943 года окончивший учебный курс механик-водитель уже служил в составе 9-го запасного маршевого танкового полка СибВО; с Омского завода был получен и на танкодроме обкатан танк Т-34, проведена подготовка сформированных танковых экипажей. В декабре 1943-го на железнодорожной воинской площадке Омска боевые машины погрузили на платформы, и эшелон отправился на фронт.
На войне — как на войне
Как прошли у танкиста 1944-й и январь 1945 года известно мало — Леонид Романович считал, что тот, кто охотно и много рассказывает о войне, вряд ли сам был на передовой. В листах по учёту кадров, в графе «Пребывание за границей», он обычно указывал: «1944 — 1945 гг. Польша, Чехословакия, Германия». В анкетах значится «механик-водитель танка Т-34, гвардии ст. сержант 24-й гвардейской танковой бригады 5-го гвардейского отдельного Зимовниковского мотомеханизированного корпуса» и «участие в боях Великой Отечественной войны на 4-м и 1-м Украинских фронтах в составе действующей армии». Леонид Романович вспоминал, что, придя в бригаду с пополнением, он ещё застал здесь людей, дравшихся под Прохоровкой.
Из боевой биографии Кызласова узнаём: он менял несколько подбитых врагом машин, вёл разведку боем и совершал рейды в немецкий тыл. Получил лёгкое ранение в Карпатах в январе 1945 года, освобождал пленных концлагеря Освенцим. Были бои за Краков, бросок под Моравску-Остраву, продвижение вдоль Одера и его форсирование, наступление на «Большой Берлин» (Зорау, Глогау).
Помнится рассказ отца о том, что в полевых боях через триплексы видно было плохо, а кругозора не было вовсе, поэтому открывался лобовой люк и механик-водитель ориентировался, высунувшись из него. Благодаря этому Леонид Кызласов оставался жив: когда он горел в танке, то, опережая взрыв боезапаса, выскочить из машины надо было за несколько секунд. Многократно он высказывал восхищение и самим танком Т-34 (особенно с орудием калибра 85 мм, основным с 1945 года): «Прекрасная машина!»
Сохранились две маленькие сшитые тетрадки дневника, обрезанного военной цензурой вплоть до польского периода — до 2 февраля 1945-го. Шло переформирование готовящейся к маршу бригады, комплектование экипажей. «Каждый день работаем на машинах — красим, чистим, проверяем, завинчиваем, заправляем, натягиваем гусеницы, перекладываем боекомплект и т. д. и т. п.» Запись от 3 марта «близь Кракова... этой древней столицы Польши», когда батальонный врач поселил больного Леонида в польскую семью: «Учусь говорить по-польски. Читаю с хозяйской девочкой Янкой букварь для I класса и всё понимаю»... Танкист оставался студентом. Его так и называли товарищи. Кроме впечатлений молодого сибиряка о Польше 1945 года, дневник даёт нам увидеть реальные сроки, проживаемые экипажем в условиях атакующего боя. Машина Леонида Кызласова, как и большинство других долго и тщательно готовившихся танков бригады, сгорела на второй день в третьей по счёту атаке.
Весна 45-го
Весной 1945-го в абаканскую избушку на Черногорской (ныне Советской) улице пришло адресованное 18-летней Кларе Романовне похоронное извещение о том, что её брат «младший сержант Кызласов Леонид Романович в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 23 марта 1945 г. и похоронен с отданием воинских почестей. Германия, Силезия, дер. Бладен, высота 292». Копия похоронки была подарена профессору Кызласову в 1993 году когда-то служившим в военкомате Иваном Борисовичем Колчинаевым, возглавлявшим тогда бригаду школьников на археологических раскопках у села Троицкое Боградского района. Глядя на неё, старший внук просил дедушку съездить в Германию на ту могилу: «Там ведь наша фамилия написана».
Официальная формулировка извещения сильно расходилась с реальностью. Дневниковая запись Леонида от 22 марта такова: «… сожгли второй танк нашего взвода. Остался один наш. К вечеру мы лишь двумя танками встали в оборону... Ночью подошли все танки батальона, остававшиеся сзади. Утром нас снова бросили в бой... Мой люк был открыт, а сам я наблюдал в перископ, и вдруг — бах! Перед глазами всплеснуло пламя. Одна мысль — прыгать!!! Подняв руки вверх к люку, увидел: кисть левой руки — одни лохмотья. Вывалился и упал с башни... Мимо пробежал, горя как свечка, один автоматчик... Других из экипажа не видел». Танкист Кызласов, однако, выжил: «На мой крик прибежал один пехотинец, который стянул с меня телогрейку и потушил одежду, а затем потащил в лощину, где санитар перевязал руку, и я пошёл один в деревню километрах в двух от поля боя. По дороге попал под артогонь, но добежал до деревни благополучно. Там попал под огонь мессеров. Прошёл деревню и был подобран автомашиной, которая отвезла меня в тыл, в санбат...»
Танкист попал в пехотный госпиталь, где «...вечером 23-го мне сделали операцию. Кисть отняли». За день до 21-го дня рождения парень стал одноруким. В 1952 — 1956 годах в городе Кендзежин-Козле, центре одноимённого повята (района) Опольского воеводства Польши, было создано советское военное мемориальное кладбище. На нём из разных мест воеводства перезахоронили останки 18 186 красноармейцев. Среди воинов, перезахороненных там из Влодзенина, известны фамилии 57 человек. Значится ли среди них Леонид Кызласов, мне неизвестно. 29 марта он написал письмо домой, сообщил, что ранен, и всё. Согласно архиву нашей армии, Леонид Романович Кызласов всю жизнь так и числился в списке безвозвратных потерь РККА с того дня — 23 марта 1945 года...
Затем была череда госпиталей — сначала армейский, затем эвакуационный из Гляйвица (теперь польского Гливице) во Львов. В письме от 3 апреля 1945-го: «Теперь я в Союзе... Мы ехали хорошо. В настоящем санпоезде, а в большинстве случаев возят «летучки» — товарняк». И дальше на восток и юг.
С 14 апреля — Ессентуки, госпиталь № 5416. За три месяца бойца подлечили (по косточкам собрав раздробленный локоть), 21 июля он получил справку о ранении и 23-го уехал из Минвод, но не домой в Хакасию, а сразу же в Москву. Где уже в день приезда, 26 июля, подал заявление в Московский университет.
Ещё не демобилизованного фронтовика всерьёз беспокоило, может ли однорукий человек быть археологом. Однако профессор Артемий Владимирович Арциховский, основатель и руководитель кафедры археологии на историческом факультете, решил вопрос короткой фразой: «Очень хорошо. Археологов-танкистов ещё не было». С тех пор Леонид Романович уже никогда не расставался с МГУ. Хотя именно участие в Великой Отечественной войне он считал главным делом своей жизни.
Томск как начало
Леониду Кызласову было 17 лет, и в призыве ему отказали. Решено было продолжить образование. Аттестат и заявление о допуске к вступительным экзаменам были отправлены в Горный институт Ленинграда, и оттуда пришёл официальный вызов. Но доехать абитуриенту удалось только до Новосибирска, где старый мудрый кассир отказался компостировать билет юноши, ехавшего на запад, откуда уже приходили эшелоны с беженцами. Расхвалив «наш сибирский университет» в Томске, добрый человек туда и переоформил билет разобиженного парня. Именно с лета 1941-го в Томском госуниверситете стало работать археологическое отделение историко-филологического факультета, куда и поступил Кызласов. Учебный год был для первокурсников тяжёлым: студенты привлекались к строительству железной дороги, уборке хлеба на полях, литью минных корпусов на оборонном заводе. Расплачивались с ними хлебом и рабочими карточками — осенью в Томске начался голод, усилившийся к 1942 году. Иногородние студенты разъехались по домам, и зимою Леонид остался в холодном общежитии один, но декан факультета Зоя Яковлевна Бояршинова регулярно навещала его.
Парень учился с наслаждением, до ночи засиживаясь в богатой книгами Научной библиотеке ТГУ (тетради со сделанными там многочисленными выписками стояли в московском кабинете учёного и использовались до конца жизни). В феврале 1942 года он лишь единожды выезжал домой — на похороны 39-летней матери... Сдав летнюю сессию, студент вернулся в Абакан, где на руках бабушки и деда оставались его сестра-подросток и малолетний брат.
Учёба танковой науке
Достигший 18 лет Леонид Кызласов был мобилизован в Рабоче-крестьянскую Красную армию в сентябре 1942-го. На сборном пункте в Бердске (под Новосибирском) офицер-танкист, отбиравший призывников для своего рода войск, на общем построении скомандовал: «Трактористы и студенты — шаг вперед!» Такой выбор понятен — трактористы уже знали технику, а студенты были способны быстро её освоить. Так первокурсник ТГУ стал курсантом 4-го отдельного учебного танкового полка Сибирского военного округа, расположенного в военном городке Омска, в землянках близ старых кирпичных казарм Первой мировой войны. Вероятно, лёгкий характер и успешная учёба курсанта Кызласова привели к дружбе с ним одного из офицеров полка — Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Шпигунова, в боях 1941 года потерявшего руку. Иван Михайлович предлагал оставить Леонида в учебном полку инструктором, но юноша, конечно, не захотел. Но сохранил в боях и походах подаренную командиром фотографию с тёплой надписью.
В ноябре 1943 года окончивший учебный курс механик-водитель уже служил в составе 9-го запасного маршевого танкового полка СибВО; с Омского завода был получен и на танкодроме обкатан танк Т-34, проведена подготовка сформированных танковых экипажей. В декабре 1943-го на железнодорожной воинской площадке Омска боевые машины погрузили на платформы, и эшелон отправился на фронт.
На войне — как на войне
Как прошли у танкиста 1944-й и январь 1945 года известно мало — Леонид Романович считал, что тот, кто охотно и много рассказывает о войне, вряд ли сам был на передовой. В листах по учёту кадров, в графе «Пребывание за границей», он обычно указывал: «1944 — 1945 гг. Польша, Чехословакия, Германия». В анкетах значится «механик-водитель танка Т-34, гвардии ст. сержант 24-й гвардейской танковой бригады 5-го гвардейского отдельного Зимовниковского мотомеханизированного корпуса» и «участие в боях Великой Отечественной войны на 4-м и 1-м Украинских фронтах в составе действующей армии». Леонид Романович вспоминал, что, придя в бригаду с пополнением, он ещё застал здесь людей, дравшихся под Прохоровкой.
Из боевой биографии Кызласова узнаём: он менял несколько подбитых врагом машин, вёл разведку боем и совершал рейды в немецкий тыл. Получил лёгкое ранение в Карпатах в январе 1945 года, освобождал пленных концлагеря Освенцим. Были бои за Краков, бросок под Моравску-Остраву, продвижение вдоль Одера и его форсирование, наступление на «Большой Берлин» (Зорау, Глогау).
Помнится рассказ отца о том, что в полевых боях через триплексы видно было плохо, а кругозора не было вовсе, поэтому открывался лобовой люк и механик-водитель ориентировался, высунувшись из него. Благодаря этому Леонид Кызласов оставался жив: когда он горел в танке, то, опережая взрыв боезапаса, выскочить из машины надо было за несколько секунд. Многократно он высказывал восхищение и самим танком Т-34 (особенно с орудием калибра 85 мм, основным с 1945 года): «Прекрасная машина!»
Сохранились две маленькие сшитые тетрадки дневника, обрезанного военной цензурой вплоть до польского периода — до 2 февраля 1945-го. Шло переформирование готовящейся к маршу бригады, комплектование экипажей. «Каждый день работаем на машинах — красим, чистим, проверяем, завинчиваем, заправляем, натягиваем гусеницы, перекладываем боекомплект и т. д. и т. п.» Запись от 3 марта «близь Кракова... этой древней столицы Польши», когда батальонный врач поселил больного Леонида в польскую семью: «Учусь говорить по-польски. Читаю с хозяйской девочкой Янкой букварь для I класса и всё понимаю»... Танкист оставался студентом. Его так и называли товарищи. Кроме впечатлений молодого сибиряка о Польше 1945 года, дневник даёт нам увидеть реальные сроки, проживаемые экипажем в условиях атакующего боя. Машина Леонида Кызласова, как и большинство других долго и тщательно готовившихся танков бригады, сгорела на второй день в третьей по счёту атаке.
Весна 45-го
Весной 1945-го в абаканскую избушку на Черногорской (ныне Советской) улице пришло адресованное 18-летней Кларе Романовне похоронное извещение о том, что её брат «младший сержант Кызласов Леонид Романович в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 23 марта 1945 г. и похоронен с отданием воинских почестей. Германия, Силезия, дер. Бладен, высота 292». Копия похоронки была подарена профессору Кызласову в 1993 году когда-то служившим в военкомате Иваном Борисовичем Колчинаевым, возглавлявшим тогда бригаду школьников на археологических раскопках у села Троицкое Боградского района. Глядя на неё, старший внук просил дедушку съездить в Германию на ту могилу: «Там ведь наша фамилия написана».
Официальная формулировка извещения сильно расходилась с реальностью. Дневниковая запись Леонида от 22 марта такова: «… сожгли второй танк нашего взвода. Остался один наш. К вечеру мы лишь двумя танками встали в оборону... Ночью подошли все танки батальона, остававшиеся сзади. Утром нас снова бросили в бой... Мой люк был открыт, а сам я наблюдал в перископ, и вдруг — бах! Перед глазами всплеснуло пламя. Одна мысль — прыгать!!! Подняв руки вверх к люку, увидел: кисть левой руки — одни лохмотья. Вывалился и упал с башни... Мимо пробежал, горя как свечка, один автоматчик... Других из экипажа не видел». Танкист Кызласов, однако, выжил: «На мой крик прибежал один пехотинец, который стянул с меня телогрейку и потушил одежду, а затем потащил в лощину, где санитар перевязал руку, и я пошёл один в деревню километрах в двух от поля боя. По дороге попал под артогонь, но добежал до деревни благополучно. Там попал под огонь мессеров. Прошёл деревню и был подобран автомашиной, которая отвезла меня в тыл, в санбат...»
Танкист попал в пехотный госпиталь, где «...вечером 23-го мне сделали операцию. Кисть отняли». За день до 21-го дня рождения парень стал одноруким. В 1952 — 1956 годах в городе Кендзежин-Козле, центре одноимённого повята (района) Опольского воеводства Польши, было создано советское военное мемориальное кладбище. На нём из разных мест воеводства перезахоронили останки 18 186 красноармейцев. Среди воинов, перезахороненных там из Влодзенина, известны фамилии 57 человек. Значится ли среди них Леонид Кызласов, мне неизвестно. 29 марта он написал письмо домой, сообщил, что ранен, и всё. Согласно архиву нашей армии, Леонид Романович Кызласов всю жизнь так и числился в списке безвозвратных потерь РККА с того дня — 23 марта 1945 года...
Затем была череда госпиталей — сначала армейский, затем эвакуационный из Гляйвица (теперь польского Гливице) во Львов. В письме от 3 апреля 1945-го: «Теперь я в Союзе... Мы ехали хорошо. В настоящем санпоезде, а в большинстве случаев возят «летучки» — товарняк». И дальше на восток и юг.
С 14 апреля — Ессентуки, госпиталь № 5416. За три месяца бойца подлечили (по косточкам собрав раздробленный локоть), 21 июля он получил справку о ранении и 23-го уехал из Минвод, но не домой в Хакасию, а сразу же в Москву. Где уже в день приезда, 26 июля, подал заявление в Московский университет.
Ещё не демобилизованного фронтовика всерьёз беспокоило, может ли однорукий человек быть археологом. Однако профессор Артемий Владимирович Арциховский, основатель и руководитель кафедры археологии на историческом факультете, решил вопрос короткой фразой: «Очень хорошо. Археологов-танкистов ещё не было». С тех пор Леонид Романович уже никогда не расставался с МГУ. Хотя именно участие в Великой Отечественной войне он считал главным делом своей жизни.
Игорь КЫЗЛАСОВ,
доктор исторических наук
Москва
Материалы по теме
Комментарии: 0 шт
859
Оставить новый комментарий