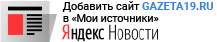Наступление Юго-Западного и Донского фронтов началось 19 ноября 1942 года после 80-минутной артподготовки. К исходу дня на двух участках была прорвана оборона противника. Сталинградский фронт начал наступление 20 ноября.
Клетский плацдарм сыграл огромную роль в ходе оборонительных и наступательных боёв на подступах к Сталинграду. Летом и осенью 1942 года сводки Совинформбюро начинались с сообщений о тяжёлых боях в районе Клетской. 19 ноября 1942 года эта станица была освобождена от захватчика. Отсюда началось контрнаступление советских войск. Теперь мы с гордостью говорим, что в этих боях, будучи командиром взвода управления миномётной батареи, участвовал и Геннадий Филимонович Сысолятин. Спустя годы он, писатель, литсотрудник газеты «Советская Хакасия», в очерке-воспоминании расскажет о днях и минутах, когда каждый воин без страха смотрел смерти в лицо.
Геннадий Сысолятин
После грозной артподготовки под Клетской наш отдельный миномётный полк РГК вместе со всем правым крылом Донского фронта включился в преследование растрёпанных нами дивизий шестой армии Паулюса и румынских соединений. Враги отступали на юго-восток по Донской гряде. И они, и мы — внутри большой излучины Дона. Донская гряда не сплошная, не мои Саяны, где один хребет переходит в другой. Здесь — низкие горушки, самая высокая отметка — 250 метров над уровнем моря. Кое-где встречаются меловые скалы. Но больше пологих высоток. Они разделены широкими впадинами и изрезаны балками, такими, как Фаткино, из которой мы вышли на прорыв вражеской обороны. В низинах — станицы и хутора.
Противник оставляет заслоны на высотках и в балках. Чтобы мы думали — тут у него новые рубежи обороны. Но мы сминаем заслоны и идём дальше. Надо как можно быстрее соединиться с передовыми частями наступающего в нашем направлении Сталинградского фронта.
Полковая походная колонна рассредоточена побатарейно. Не теряем из вида гвардейскую пехоту, с ней идёт наш офицер связи. Мы всё время начеку, в любой момент готовы принять и выполнить команду «к бою!». У каждого в ушах ещё стоит гул небывалой канонады, хотя она и отгремела.
Что мы побывали в большом сражении, видно хотя бы по трофеям. Нет, мы не барахольщики и взяли в немецких и румынских траншеях только то, что показалось нужным. Мои «кореши» лейтенанты Бараночников, Улитин, Володьянов обзавелись парабеллумами и обоймами к ним. У командира батареи Костюнина в кобуре оказался бельгийский 14-зарядный пистолет. Свой отечественный «ТТ» он великодушно отдаёт мне. На коротком привале, нужном не столько нам, сколько нашим коням, расчёты угощаются махоркой из круглых плоских пластмассовых, с навинчивающимися крышками, коробочек. У фрицев они были предназначены под сливочное масло. Бойцы делят сухари на разостланных камуфлированных — тоже из тех траншей — плащ-палатках.
...Но настоящие трофеи громоздятся сейчас на фурманке моего взвода управления — дюжина немецких заплечных телефонных катушек, все на шарикоподшипниках. На каждой — рулон двухпроводного кабеля: одна нитка красная, другая — синяя. Не будут теперь мучиться связисты, соединяя колючими узлами и перематывая изолентой наш собственный, много раз перебитый осколками снарядов и мин, кабель и накручивая его на наши самодельные катушки, скованные ещё в Кордяге, где полк формировался...
Привал кончился. Мы снова в походной колонне. Спускаемся в широкую низину по склону, покрытому бурой несжатой пшеницей. Больно смотреть на полёгшие стебли, пустые колосья, из которых вытекло зерно. Какой-то донской колхоз сеял эту пшеницу, растил, надеялся убрать...
Мой ездовой Киселев, сам вчерашний колхозник, оборачивается ко мне:
— Сколько хлеба гибнет! Сколько людей можно было прокормить, а фашист-собака, вишь, танками все истоптал... — и показывает на широкую рубчатую колею, прошедшую прямо по полосе.
На следы гусениц в пшенице смотрит, спешившись, комбат Костюнин:
— Не танки это — следы узкие. Может быть, транспортёры... И свежие рубцы...
Колея огибала высоту, что перед нами.
— Веди батарею туда, на гребень...
Это приказ мне. Костюнин одним махом оказался верхом на коне. Вместе с другим верховым — сержантом Жигилевым, он поскакал вперёд.
Батарейный обоз добрался до плоской вершины. Комбат и разведчик, сидя на конях, смотрят в бинокли.
— Вон они! — кричит Жигилев.
И в ту же минуту прилетает фрицевский гостинец — на высоте рвётся снаряд, с воем летит другой...
Всадников с сёдел будто ветром смахнуло. Но все целы. И кони тоже. Стою над меловым обрывом, вожу биноклем. Там, внизу, километрах в двух от нас, по узкой долине уходит вражеская пешая колонна, с ней два бронетранспортёра. Нашей преследующей пехоты не видно.
Костюнин подает команду «к бою!». Тащу из повозки треногу буссоли.
— Не надо! — останавливает меня комбат. — Самыгин! — кричит он командиру первого расчёта. — Наводить по нулевой линии.
Эта белая продольная линия прочерчена на стволе. Огневики пользуются ею только при грубой наводке, на глаз. Но сейчас именно тот случай.
— Заряд второй! — командует Костюнин.
В считанные моменты батарея изготавливается и открывает огонь. Вижу разрывы вблизи убегающей колонны. Костюнин командует доворот, увеличивает прицел. Командует: «Беглым!» Стрелять по правилам некогда. Сразу ведём огонь на поражение.
Там, где сейчас была вражеская колонна, клубится чёрное облако.
И транспортёры, а может, танкетки, больше не огрызаются снарядами.
— Стой! Записать цель, — подаёт последнюю команду Костюнин.
— А что записывать-то, комбат? — спрашивает низенький Улитин. Глаза у него, как смородины, и сейчас лучатся смехом. — Буссоль неизвестна, угломер нулевой, плюс два лаптя вправо...
— Ладно, не записывай. Пусть только «кавэу» отметит на карте, где была огневая, где — цель... На всякий случай...
Подхожу к Улитину.
— Все ты балагуришь, Лёшка. Ведь врёшь, что били на глаз. Ты же успел поставить колышек отметки.
— А какой толк из этой записи? Больше не пригодится...
Смотрим в бинокли. Остатки вражеской колонны порознь спешат что есть силы удрать из открытой лощины под вётлы. Бронетранспортёров не видно. Скорее всего, удрали, бросив свою пехоту...
Ориентирую свою карту и нахожу на ней это место вблизи хутора Платонов. Красным карандашом рисую значок орудия на густых горизонталях, означающих высоту, и чёрным — подавленную цель — два ромбика. Пишу под ними: «Транспортёры и пехота». Ставлю дату: «20 ноября 1942 года».
Мы сместились вправо от того направления, которое дано гвардейской пехоте, и давно уже идём по следам 3-го гвардейского конного корпуса. Иногда догоняем кавалеристов. Наша батарея даже остановилась на привал вместе с одним из эскадронов.
— Привет «щёголям»! — иронически здоровается с комэском Костюнин.
— A-а, «лодыри» пожаловали! — с неменьшим сарказмом отвечает эскадронный.
Была такая довоенная армейская частушка, в которой доставалось «на орехи» всем родам войск, из неё эти прозвища...
Комэск — молодой парень, широколицый, курносый. На голове никакая не кубанка, а обыкновенная ушанка, одет в кургузую пехотную шинель, на ногах — кирзовые сапоги. Кирза на голенищах стёрта путлищами стремян. Слева на боку — шашка, справа — наган...
— Рубить-то приходится? — Костюнин дотрагивается рукой до шашки комэска.
— У нас что, восемнадцатый год? — Косит тот на моего комбата смеющиеся глаза. — У нас и автоматы, и пулемёты, и пушки. Можем держать оборону не хуже пехотной дивизии. Только ведь мы предназначены для прорывов, для рейдов по тылам врага...
— Но в рейдах-то шашками работаете? — не унимается Костюнин.
— У нас пулемётчики из «дегтярей» на скаку с луки бьют, — комэск пытается увести разговор от злополучного предмета, но Костюнин не даёт.
— Так шашки-то, поди, приржавели у вас к ножнам? — наседает он.
— Нет, мы их смазываем...
Грянул такой хохот, что костёр стрельнул высоким ярким пламенем. Хохотали и миномётчики, и сами кавалеристы. И все же мы уважительно посматривали на их шашки — ведь были прославленным оружием, да и теперь, может быть, ещё просверкают, при подходящем, конечно, случае...
Отсмеялись — пошёл разговор о деле: в каком направлении двинутся дальше эскадрон и наша батарея? Костюнин и комэск развернули карты, повели по ним карандашами. Кончики карандашей упёрлись в название деревни: «Верхняя Бузиновка»...
В Верхней Бузиновке, длинной, изогнувшейся «глаголем» станице, где разместилось на ночёвку много наших частей, моё уважение к бравым конникам чуть не поколебалось. Куцевалов послал меня в качестве офицера связи в штаб конного корпуса. Конечно же, я выполню его поручение. После гибели майора Якимова позавчера под Клетской полк по старшинству принял он, капитан Куцевалов... Я должен был находиться в штабе корпуса всю ночь, а утром вернуться в свой полк и сообщить Куцевалову, в котором часу и в каком направлении выступает корпус.
Дом, где расположился штаб корпуса, находился на другом конце станицы. Мне его указали сами кавалеристы. Но проникнуть в него я не смог. Только открыл калитку, как топтавшийся на крыльце нерусский часовой навёл на меня карабин и закричал: «Кыругом, назад, стыриляй буду!» Часовой мне показался пьяным. На мои квадратики лейтенанта на петлицах шинели не обратил никакого внимания, а мои слова о том, что являюсь офицером связи и должен встретиться с корпусным начальством, до него попросту не доходили. «Стыриляй буду!» — и точка. И целился в меня, держа палец на спусковом крючке. А из дома доносились громкие и, опять мне показалось, пьяные голоса.
Я вышел, хлопнув калиткой. Что делать? А может быть, я ошибся, и это не тот дом? Отправился разыскивать знакомый эскадрон. Комэск выслушал меня.
— Дом тот самый, но ты что-то путаешь, друг. Не может быть такого...
— Пойдёмте со мной, увидите...
— Не могу, брат. Мои хлопцы баню истопили. Вот и бельё приготовил. А пока хожу с тобой, баня выстынет... Слушай, — осенило его, — дался тебе этот большой штаб. Эскадрон мой чем плох? Да я, может, раньше других узнаю, когда и куда выступаем... Раздевайся, айда париться!..
Я остался при эскадроне. Комэск, раскрасневшийся после бани, расчесал мокрые волосы, прикрепил к гимнастёрке вымытый целлулоидный воротничок, надел шинель, поверх неё кавалерийскую шорку с наганом и шашкой, и куда-то ушёл. Не было его с полчаса. Вернулся, страшно ругаясь.
— Штаба там нет, лейтенант. Он перебазировался куда-то вперёд. Осталась часть его имущества, писаря и ординарцы. Шнапс трофейный дули, черти... Ничего, утром всё узнаем...
Утром, вернувшись в расположение своего полка, который ночевал под открытым небом, так как все дома в станице были заняты стёкшимися сюда частями 21-й армии, я нашёл Куцевалова и готовился браво доложить ему о выполнении задания — узнал, что конный корпус выступает в 7.00 в направлении «Большенабатовский».
— Командующего корпусом видел? — сбил с меня пыл Куцевалов.
— Нет.
— А начальника штаба?
— Нет...
— Тогда кто же дал тебе эти сведения?
— Комэск...
Хорошо, что Костюнин, которому я успел всё раньше рассказать, находился сейчас рядом со мной.
— Товарищ капитан, — обратился он к Куцевалову. — Я этого комэска знаю, сведениям, которые он дал, можно верить. А лейтенант ещё молодой — исправится. В другой раз точнее будет выполнять ваши приказания...
Куцевалов строго посмотрел на меня.
— Можете идти. Ты, Костюнин, останься...
Не знаю, какой разговор произошёл между ними, но, думаю, не из приятных. Из-за меня. Надо было приложить все силы, чтобы найти офицеров штаба, а не какого-то комэска... Долго ещё после этого я чувствовал себя не в своей тарелке.
Вернувшись от Куцевалова, Костюнин сказал мне:
— Офицер связи не только осведомляется и осведомляет, но ещё и представительствует. Именно последняя цель и не была достигнута. Штаб корпуса откуда знает, что вместе с ним движется и миномётный полк? Куцевалов послал меня самого искать штаб кавкорпуса...
— А ты веди батарею, — приказал мне Костюнин. — И старайся, чтоб никакой беспорядок не попал Куцевалову на глаза. Об обстановке думай. По сведениям Куцевалова, в Голубинском вчера был КП самого Паулюса. А штаб его не то в Большенабатовском, не то в Песковатке... И как бы нам не напороться тут на крупный рубеж сопротивления...
Как в воду глядел Костюнин.
Между Верхней Бузиновкой и Большенабатовским, на покрытой редколесьем пересечённой местности, впереди оказались две высоты. Обойдя первую, наша рассредоточенная полковая колонна наткнулась на скопление наших же войск перед второй. Образовалась почему-то громадная «пробка» из остановившихся внезапно пехотных, конных и мотомехчастей. Тут же оказалось и начальство из штаба 21-й армии, немедленно потребовавшее к себе нашего комполка. В этой группе я увидел и Костюнина. Куцевалов и незнакомый полковник, показывая на открытое пространство впереди, что-то говорили ему. Костюнин, вытянувшись перед ними и откозыряв, побежал к колонне нашей батареи. Увидев меня, велел собрать комвзводов.
— Поставлена задача поддержать огнём пошедший за высоту батальон пехоты, в случае чего. Огневая будет там, — махнул он рукой, указывая на лесной околок впереди. — Надо сейчас рысью преодолеть открытую полосу...
Как неслись наши повозки с миномётами и минами! Как подтряхивало ездовых, сидевших на жёстких опорных плитах! Вот уже реденький донской лесок — корявые осокори и осины, вершина небольшой балочки...
— Давай туда! — показывает Костюнин в балку. — Миномёты к бою! — кричит он уже внизу командирам огневиков Улитину и Володьянову. Сам нетерпеливо смотрит в мою сторону. Я нагружаю на Сочнева катушку с кабелем, хватаю полевой телефон, буссоль и бегу за комбатом вверх. Там оборудуем какой-никакой НП, с которого увидим, наверное, нашу пехоту, пошедшую в разведку...
Не успели подняться из балочки, за высотой что-то хлопнуло раз, другой...
Там — хлопнуло, здесь — бухнуло...
В балочку с воем посыпались вражьи мины. А по свороту в неё, где ещё оставались несколько повозок с боеприпасами и походная кухня, немцы ударили из настильных орудий.
Мы не успели ни занять боевые порядки, ни просто окопаться. Даже кони оказались невыпряженными из миномётных повозок. И тут-то немецкие канониры показали, на что они способны. По нам били то беглым огнём, то методическим, в темпе «пять секунд — выстрел», не давая поднять головы. Полегли лошади, полегли люди. Повозки превратились в обломки. Иссечённые до заусениц стволы полковых миномётов с нераздвинутыми двуногими лафетами валялись среди разбитых колёс и дрожин и казались нелепыми раскряжёванными сутунками.
Артналёт следовал за артналётом. Шинели на нас были иссечены осколками, на руках и лицах — кровь, если не своя, то раненых и убитых товарищей, которых уцелевшие переносили ниже, в балку. Но и там от рвущихся мин не было спасения.
Сколько времени продолжался этот ад? Часов у меня не было. «Кировские» же наручные Костюнина разнесло осколком, зато рука уцелела. На деревьях и кустах висели клочья тротилового дыма, пахнущие чесноком.
Обстреливали нас немцы до тех пор, пока по ним самим не ударила с нашей стороны тяжёлая батарея пушек-гаубиц.
Мы с Костюниным стали считать потери. Из 64 человек личного состава батареи в живых осталось 13. Остальные убиты и ранены. Кони перебиты, за исключением хозвзводовских, что возили каптёрку старшины да полевую кухню...
Не буду описывать, как выносили из балки раненых и убитых, вытаскивали матчасть. Как хоронили павших товарищей. И среди них старшего политрука Шумкова, убитого прямым попаданием немецкой мины в повозку, на которой он сидел...
Остатки нашей батареи с матчастью, которую некому стало обслуживать, возвратились в свою полковую колонну, следовавшую с группой войск, не настигших в этот день штаб Паулюса. Наш полк снова оказался без командира. Куцевалов во время вражеского артналёта, доставшего и штабы, получил тяжёлое ранение, и его эвакуировали в госпиталь. Командарм 21-й армии генерал-лейтенант Чистяков прислал ему на замену майора Криворучко. Первым распоряжением Криворучко было — пополнить нашу батарею за счёт хозвзводов других батарей полка. А ещё отправить Костюнина в армейский трибунал — отвечать за потери нашей батареи и батальона пехоты, который мы в глаза не видели.
Однако мой комбат вернулся из штаба армии с боевой наградой. Вот как он сам вспоминал тот случай в письме ко мне, направленном в 1982 году из Пензы по случаю 40-летия Сталинградской битвы.
«Дорогой Геннадий, ты помнишь — после прорыва 19 ноября 1942 года немецкой обороны под Клетской, наш 108-й полк тяжёлых миномётов Резерва Главного Командования, совместно с кавалерией и танками, успешно развивал наступление в направлении города Калач-на-Дону. На рассвете 21 ноября авангардные части, в том числе и наша батарея, достигли двух высот, отстоящих одна от другой на 3 км. Все части встали в укрытие за первой высотой, а что творилось за второй — командование не знало. В это время к Куцевалову подошёл полковник Лихачев, начальник штаба артиллерии 21-й армии. И приказал выделить миномётную батарею для поддержки действий батальона пехоты, посланного вперёд. Куцевалов увидел меня, а дальше ты сам знаешь, что произошло. Мы проехали километра два до балочки, и немцы накрыли нас сосредоточённым огнём. От этого внезапного удара и наша батарея, и батальон потеряли боевые порядки и понесли большие потери. После чего командир дивизии, которую мы поддерживали, стал меня обвинять в поражении. Меня вызвали на заседание военного совета 21-й армии для разбирательства. Но в заседании приняли участие и командующий артиллерией 21-й армии генерал-майор Турбин, и его начальник штаба Лихачев. Они-то и разъяснили армейскому совету, что действия нашей батареи и батальона пехоты, хотя и не были развиты, но спасли авангард армии. Удалось выявить огневую систему сопротивления немцев за второй высотой. И подавить их артиллерию огнём тяжёлых орудий. После этого наши части обошли высоту справа и слева, продолжив уже беспрепятственное движение на Большенабатовский, Голубинский и Калач...
Таким образом, благодаря нежданному заступничеству генерала Турбина и полковника Лихачева я вместо наказания тут же был награждён медалью «За отвагу», — закончил письмо бывший комбат.
Что ж, всё правда. Медаль Костюнина я видел ещё тогда. Но до сих пор больно и обидно за полёгших миномётчиков и пехотинцев. Неужели нельзя было разведать эти высоты с воздуха? Нашим собратьям по оружию достались рваные куски другого металла — осколки вражеских снарядов и мин.
Фельдмаршала фон Паулюса наша 21-я армия пленила в самом Сталинграде, в ночь с 31 января на 1 февраля 1943 года. И я видел огромные, многокилометровые колонны немецких солдат и офицеров, бредущих в плен. Как святыню, храню боевую карту с грозными стрелами, направленными на вражескую оборону.
(Публикуется с сокращениями)
Самое кровопролитное сражение
По данным минобороны РФ, в ходе Сталинградской битвы общие потери Германии и её союзников убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести оцениваются в 1,5 миллиона человек. Потери Красной армии составили около 1,13 миллиона человек, среди которых 480 тысяч безвозвратные. Сколько погибло мирных жителей, не установлено.
В боях за Сталинград сложили головы 380 воинов, призванных из Хакасии. Республиканская общественная организация ветеранов вышла с инициативой — установить на Мамаевом кургане памятную стелу нашим героям-землякам. Предложение принято.