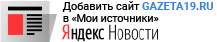На вторые сутки поезд ненадолго замер у короткой, казалось, всеми забытой платформы с одиноким фонарём на столбе.
Проводница постучала в дверь купе и, объявив название полустанка, сочувственно поглядела на выглянувшего Сергея.
«Куда людей несёт среди ночи? Сидели бы дома, в тепле и уюте». Молодой человек закинул ремень этюдника на плечо и, сунув под мышку объёмную сумку, вышел в тамбур и бодро спрыгнул со ступенек вагона. Тепловоз загудел прощально, напрягаясь, потащил состав дальше, а Сергей зашагал к небольшому, в два окна, вокзалу. В полутёмной комнате, изображающей зал ожидания, с окрашенными серой казённой краской стенами и подсвечённой только фонарём с улицы было довольно прохладно, но надо где-то коротать остаток ночи, поэтому Сергей прилёг на единственную скамью, задремал и вскоре провалился в крепкий, полный ярких событий сон, какой бывает в молодые годы при любых обстоятельствах и которому не помехой твёрдые доски под боком и жёсткая сумка с колючей застёжкой под головой.
Уже с первого курса Сергей Кузьмин отличался крепкой мастеровитостью в рисунке и особым колоритом в живописи. Сан Саныч, замечательный художник, по совместительству «аксакал» местной педагогики, выпустивший сотни талантливых и не очень, трудолюбивых и с ленцой студентов, во время занятий часто заглядывал через плечо Сергея, одобрительно покашливал и советовал другим посмотреть, как выполнено то или иное место. Годы летели, и вот уже бурная студенческая жизнь заканчивалась, надо было готовиться к дипломной работе, для которой, по задумке Кузьмина, нужен осенний пейзаж с вековыми соснами, зарослями рябины, усыпанными оранжевыми ягодами; и чтобы над всем этим висело сентябрьское, с лёгкой грустинкой небо, ещё не очень холодное и сырое, но уже и не лёгкое летнее, с пушистыми облаками и пронзительной голубизной. А среди этой красоты, по бездорожью, в кузове вездехода должна ехать разнохарактерная группа геологов с мужественными загорелыми лицами и непременно нежная девушка, смотрящая вдаль и олицетворяющая готовность к новым трудовым подвигам. Сергей помотался по окружающему город редколесью, но ничего подходящего не нашёл. Выручил однокурсник и верный друг Сеня Васечкин: предложил съездить в его родную деревню, потому что там замечательная природа, вкусное парное молоко и весёлые розовощёкие доярки, вечерами на посиделках ладно поющие под гармонь. Верный Васечкин вручил Кузьмину письмо для бабушки, в нём попросил приютить друга на недельку-другую.
Сергея разбудили негромкие голоса. У стены, уже подсвеченной солнцем, на длинном и мягком мешке пригрелись две пожилые женщины. Одна — высокая, крепкая, с серьёзным выражением лица, другая — мелкая, подвижная, с улыбчивыми лучистыми глазами. Обе в одинаковых плюшевых куртяшках из местного магазина, не балующего разнообразием товара.
— Ты, мил человек, куда путь держишь? — спросила серьёзная. Сергей назвал деревню, фамилию бабушки Васечкина и показал письмо.
— Фроська, к тебе гость! — засуетилась мелкая, толкнув соседку по мешку в бок.
— Помолчи, вертихвостка, какая я тебе Фроська. Дома можешь называть как хочешь, а здесь — Ефросинья Дмитриевна.
— Простите великодушно, Ефросинья Дмитриевна, — низко и дурашливо поклонилась провинившаяся и, подскочив к Сергею, озорно стрельнула глазками, протянув руку для знакомства: — Евгения Васильевна, можно, по причине моего юного возраста, просто Женька. А тебя как? Кузьмин? Значит, будешь Кузя.
— Где вы тут спрятались? Почему не на улице? Карета подана, — в зал шумно вошёл сухощавый бородатый старик в брезентовом плаще и широкополой ковбойской шляпе.
— Вот и сосед Никифор Иванович нарисовался, прынц долгожданный. Иваныч, дай шляпу поносить, — съёрничала «просто Женька» и, виляя худым телом, как модницы на подиуме, с мешком на плечах первой вышла на улицу.
У начала дороги, уходящей в глубь бора, ждала застеленная сеном телега на резиновом ходу и рыжая лошадь, побрякивающая трогательным колокольчиком под дугой. Все уселись, Никифор Иванович дёрнул вожжи, лошадь, оглянувшись, заржала.
— Это у неё вместо гудка, — пояснил дед, и телега довольно быстро покатила по дороге.
За полтора часа езды по живописной местности, чередующей сосновый бор с белоствольными берёзами и зарослями рябины, Кузьмин успел полюбоваться видами и уснуть под скрип колёс. «Просто Женька» и тут не удержалась:
— Ну ты, Кузя, и любитель поспать. Видно, дома не дают. Вот скажи, зачем тебе чемодан с ножками, тем более пристёгнутыми. Он что, куда-то убежать может?
Сергей засмеялся и объяснил, что это этюдник, а ножки, чтобы удобнее рисовать природу.
— А зачем её рисовать? Смотри и радуйся. Эвон сколько природы вокруг, — и Женька махнула рукой на всю ширину своих возможностей.
— Значит, художником будешь, — уважительно подал голос дед Никифор. — У Фроси внук Сеня тоже где-то на него учится. Приезжал сюда рисовать, но, как ты говоришь, утюдника у него не было. Просто на стул ставил свои рамки.
— Мы вместе учимся, — откликнулся Сергей. — Он меня сюда послал. Места у вас красивые.
— Вот оно как... А места обычные: леса, поляны, недалеко река — бывает и шире. Ну вам, художникам, виднее.
Деревня, для кого-то привычно, для Сергея Кузьмина неожиданно, открылась за поворотом несколькими рядами добротных домов, в большинстве своём с палисадниками, заросшими черёмухой, с лавочками у ворот, с лаем собак, мычанием коров, с голосами людей и тарахтением где-то далеко работающего трактора. Ефросинья Дмитриевна и Евгения Васильевна жили вместе. Так было удобнее и дешевле. Особенно зимой: одна печь для отопления, один расход электроэнергии. Женщины быстро накрыли стол с салатом из свежей капусты и поздних огурчиков, нажарили большую сковороду картошки с салом, горкой наложили варёные яйца.
Сергей достал из сумки несколько банок консервов, упаковку редкого тогда чая в пакетиках, коробку конфет и бутылку сухого вина. Благо стипендию дали вовремя, и родители расстарались к поездке. Дед Никифор понюхал открытое вино, куда-то сбегал и поставил на стол початую бутылку прозрачной жидкости, заткнутую туго свёрнутой бумагой.
— Лекарство от всех болезней. Выпьешь стакашек, пожуёшь квашеной капустки — вся хворь вон. А вино поставим в буфет для этого, как его, для интерьеру. Бабушки-подружки после первой рюмки раскраснелись, помолодели, а после второй заёрзали, запереглядывались:
— Никифор, гармонь прихватил?
— А как же! — дед подмигнул Сергею, мол, знал, чем всё закончится, и принёс из сеней потрёпанную двухрядку. Евгения Васильевна тонко, с придыханием, затянула что-то простенькое и печальное, незнакомое Кузьмину, воспитанному на других ритмах, Ефросинья Дмитриевна бархатно подхватила вторым голосом. Дед Никифор загрустил, перебирая потёртые кнопки гармошки, а его изношенные корявые пальцы удивительно точно продолжали вести незамысловатую мелодию песни. За разговорами и распросами, после десятка пропетых песен не заметили, как полноправный вечер сменил суетливый день. Мужики вышли на крыльцо, сели на ступеньки.
— Иваныч, а где у бабушек мужья? Бабушки есть, а дедушек нет.
Дед Никифор помолчал, набивая трубку. Потом вздохнул:
— Вдовые они с войны. Было нас три друга: Васятка — муж Евгении, Петруха Фросин и я. Васятка сгорел в танке под Курском. Похоронен в братской могиле в далёких краях. Женя была там, отвезла горстку родной земли. Петруха через год после призыва тяжело израненным инвалидом с трудом добрался до дома, чтобы через месяц помереть. Успел-таки повидать жену, потискать маленько сына. Другим и этого не дано. Меня тоже сильно хватануло осколком ещё в начале, под Москвой. Врачи признали негодным, поэтому, наверное, и жив. Фрося хоть успела родить до войны, а Женя так и осталась бездетной. В 42-м, после госпиталя, я вернулся сюда, а здесь одни дети, старики и бабы. Сколько они хлебнули горя, работая за мужиков... Опять же похоронки. То в одном конце деревни баба завоет, то в другом. Сердце разрывается. Фрося всю войну стучала в колхозной кузне, на ремонте сельхозинвентаря, Женя воевала с единственным, на ладан дышащим, колёсным трактором, из-за ветхости не отправленным на фронт. Моя Фима валяла валенки в духоте и сырости. А как же, всё для фронта, всё для победы. Мне пришлось три года замещать призванного в армию председателя. Агроном на войне, зоотехник тоже, а у меня образования шесть классов. Как выкручивались — не знаю, но всё, что требовала страна, с помощью подросших деток, стариков и двужильных женщин выполняли. Вот так-то. Надо этим людям при жизни памятники ставить и улицы их именем называть. А вот и Фима идёт, меня потеряла. Сильно приболела в последнее время Фимочка. Но ничего, будем живы — не помрём.
Дед Никифор пошёл навстречу супруге, а Сергей ещё долго сидел на крыльце, прислушиваясь к засыпающей деревне.
Было уже совсем темно, когда в дверях появилась развесёлая Евгения Васильевна, хватанувшая без мужиков ещё одну стопку:
— Кузя, иди спать, мы тебе постелили, — и, прыснув в кулак, добавила: — Смотри, ночью кровать не перепутай.
— Иди тоже ложись, бестыжая. Разве можно молодого человека в таком подозревать, — Ефросинья Дмитриевна, улыбаясь, прихватила под руку захмелевшую с непривычки подругу и увела в дом.
Среди ночи Сергея разбудили звуки, похожие на плач. Он прислушался, действительно, кто-то плакал в глубине дома. Сергей осторожно поднялся и, приоткрыв дверь соседней комнаты, увидел на столе горящую свечу, фотографию парня с лихими усами и плачущую Евгению Васильевну. Она глядела на снимок и беззащитно, по-детски размазывала слёзы по морщинистым щекам. Потом к ней подошла Ефросинья Дмитриевна, сняла с полки другой заветный портрет молодого человека, уже в гимнастёрке и в пилотке, села рядом, обняв подругу. Они долго о чём-то шептались, а свеча всё горела и горела в ночи... И Сергей вдруг понял, что геологи подождут.
Через две недели, перед расставанием, он сходил в сельпо и купил два цветных платка. Ефросинья Дмитриевна с благодарностью накинула свой на плечи, а Евгения Васильевна кокетливо перед зеркалом повязала подарок на голову; сведя гузкой губы, подкрасила полузасохшей помадой и важно прошлась по комнате. Дед Никифор хохотнул и протянул руку — шлёпнуть юмористку ниже спины. Та отскочила, погрозила пальчиком: «Руки не распускай, прынц, а то Фимке расскажу, что пристаёшь». На вокзале Никифор Иванович пожал на прощанье руку Кузьмину и сказал:
— Ну, Сергей, будь здоров. Может, больше не увидимся. Это грустно. Передай привет Семёну, пусть чаще к бабке приезжает, — и, резко повернувшись, ссутулив плечи, пошёл к телеге.
На традиционной городской выставке дипломных работ выпускников художественного института среди многих достойных выделялась картина, возле которой посетители с волнением замирали. В светлой комнате с простой обстановкой, у стола, положив натруженные жилистые руки на колени, сидят две старые женщины. Одна высокая, статная, другая — небольшая, хрупкая, но обе гордые, не сломленные грузом лет. Но столе, покрытом кружевной скатертью, поблёскивают металлом и эмалью три медали и орден, вручённые после войны военкоматом; горбятся грубой бумагой несколько треугольных писем с фронта. Одно открыто, видно, недавно перечитывалось. На стене за спиной женщин под иконой Георгия Победоносца висят наивно ретушированные фотографии двух оставшихся вечно молодыми мужчин-воинов.
А в окно с геранью на подоконнике заглядывает щедрая на краски осень, очередная из многих прожитых — с кустами спелой рябины, так любимой после первых морозов, и с тропинкой от порога, протоптанной тысячами ног и бесконечно уходящей за горизонт.
Владимир ПОПОВ
Абакан