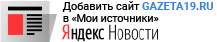(Продолжение. Начало в № 26 от 7 марта)
Какую книгу читал будущий археолог, ведя танк к Берлину?
Вопрос этот покажется абсурдным любому, но только не нам с братом. Ведь дети, даже очень маленькие, постоянно изучая мир, остро воспринимают любую «особость» человека. А отец наш имел только одну кисть руки! Почему? Вот как он сам объяснял нам: «Ехал я на танке и в одном немецком городке увидел среди брошенных вещей интереснейшую книжку про Древний Египет. Картинки в ней замечательные! Подобрал я ту книжку и, чтобы легче было переворачивать страницы, снял левую перчатку. А тут и бой начался, и подбитый наш танк запылал. Выскочил я в люк, чудом спасся, да вот левая рука сгорела. И книга та сгорела, как жаль!» Долго мы по наивности были уверены, что именно так всё и было.
Когда же юный инвалид войны (в 21 год!) появился в Московском университете и пришёл на кафедру археологии, то испугался по-настоящему: «А вдруг не возьмут?! Ведь археологу надо копать». Но профессора и преподаватели кафедры единодушно сказали: «Да, танкистов, ставшими археологами, у нас ещё не было. Но копать будут другие, а вы будете руководить раскопками».
Между тем отец почти всё умел делать сам. Занимался он в доме и ремонтом. Гвозди, например, забивал так: мне поручалось очень ответственное дело — держать гвоздь, сам же очень точно (никогда не ошибался!) бил молотком. Таким же способом клеили мы и старенькую немудрёную нашу мебель и прочее — вещи долго-долго купить было почти невозможно. Семья жила довольно скудно (зарплата одна), но как-то всё же весело, несмотря на то, что мы, дети, часто болели, а мама выбивалась из сил, борясь с этим «стихийным бедствием» и пытаясь создать условия для работы отца. Бедная, она нередко вспоминала, как ценили её на работе, и иногда звонили прежние коллеги, звали вернуться. Но увы…
В 1962 году у папы случился инфаркт, а через три года — второй. Сказались перегрузки в университете (огромное число лекций) и экспедициях, подготовка докторской диссертации и, конечно же, пережитые ранее чудовищные стрессы. Была и ещё одна (и какая!) причина: в 1965-м в стране впервые (именно так) на официальном уровне отметили военный юбилей. По радио и телевизору звучали песни, стихи, показывали фильмы. Именно тогда страна узнала немало «нового». Мы ходили с папой на митинг в университете, мне кажется, плакали все: кто открыто, а кто-то с трудом держался, но как говорят, это ещё хуже. Сердце отца оказалось расширенным — врач допытывался: «Каким видом спорта вы занимались?» Отец задумался и после паузы ответил: «Три года водил танк Т-34, выжимал рычаги».
И здесь вновь надо сказать о нашей маме. Если бы ни её каждодневный подвиг, отец вряд ли бы выжил. Её любовь в точном смысле спасла его после войны — именно она окончательно вернула обгоревшего солдата к нормальной жизни (об этом он не раз говорил с глубочайшей благодарностью). Спасла она его и во время тяжких болезней.
Возвращение в жизнь и в профессию шло постепенно — это особый душевный труд по преодолению страхов, борьбе с болью занял несколько лет. Да и прерывался ли этот труд когда-нибудь? Или лишь отступал, «ложился на дно» на какое-то время? Но Леонид Романович не был бы самим собой, если бы уже в 1966 году не защитил докторскую диссертацию. Коллеги-археологи и люди близких специальностей (антропологи, тюркологи, этнографы), так или иначе общавшиеся с отцом, переживали за «Романыча» во время его болезни. Защита же прошла блестяще. Мы с братом сидели на последней дальней лавочке в зале старинного особняка, принадлежавшего историческому факультету, и беспокоились только об одном — как бы отцу не стало плохо. Так привыкла жить наша семья — в постоянной готовности помочь ему.
Когда же отец рискнул вновь выехать «в поле», то рядом уже всегда была мама — в её походной сумочке теперь лежали сердечные капли и шприц для экстренного укола. Она была не медсестрой по профессии, а женщиной той породы, из которой сама жизнь лепила сестёр милосердных.
Нельзя входить в папин кабинет!
Такой запрет существовал во многих домах, где отец напряжённо работал, сидя за письменным столом. Наша семья не исключение. Но не всегда у Леонида Романовича был свой кабинет. И здесь надо пояснить.
Мы, дети-двойняшки, родившиеся с разницей в один час (брат старший, чем очень гордился в детстве), появились на свет в конце августа, когда отец был, как всегда, в экспедиции. Две молодые насмешницы — сёстры мамы — пошли встречать сибирский поезд. Леонид Романович вышел из вагона с огромным рюкзаком за плечами, полагая, что успел вернуться незадолго до важного события. Не увидев жены, всполошился: «Где же Анюта?» А в ответ услышал: «В роддоме. Поздравляем, дорогой, ты уже отец!» На вопрос, кто же родился, одна тётя радостно сказала «сын», а другая — «дочь». И эта заранее припасённая шуточка была повторена несколько раз. Отец не выдержал, бросив на перрон рюкзак, заявил: «Не сделаю больше ни шага, пока не скажете правду». Делать нечего — девушки объявили, что теперь семья Кызласовых стала «сам четыре». Какую бурю чувств он испытал! Вместо одного малыша сразу два. Как же обустроить эту новую жизнь? Ведь мы родились в семье аспиранта, и главным источником средств к существованию была тогда мамина зарплата (послеродовой отпуск в то время очень краткий).
Младенцы, как известно, плачут, особенно по ночам. У Леонида Романовича не было ни малейшей возможности работать дома, и кафедралы выделили ему стол в общей комнате, отгородив уголок шкафами. Милые, добродушные старшие коллеги постоянно подшучивали над ним, осведомляясь о домашних детских концертах. В этом-то «зашкапье» написаны не только ряд статей, но и первая диссертация «Таштыкская эпоха», которая сделала имя Леонида Кызласова весьма известным в среде «заинтересованных читателей».
Вообще обстановка на кафедре была изумительной — мне довелось впервые соприкоснуться с ней лет через шесть после появления на свет. И хотя в двух шагах находились Красная площадь, улицы Герцена (Большая Никитская) и Горького (Тверская), во дворе, заросшем деревьями, а главное, в самом здании старого университета бурлила такая жизнь, что казалось, ты попадал в какой-то другой мир. Здесь была редкостная концентрация колоритнейших людей, которые обладали какими-то невероятными познаниями (ты это чувствовал кожей) и при этом постоянно шутили. Но делали они это (в отличие от других) с какой-то особой непринуждённой лёгкостью, пересыпали речь невероятными «пряными» словами — как мне стало ясно потом, то была латынь, реже греческий и все живые «языцы» (некоторые кафедралы окончили ещё гимназии). Под стать хозяевам были и комнаты. Но не шкафы, набитые книгами, бросались в глаза посетителя в первую очередь, а гипсовый скелет (учебное пособие) и листы ватмана, покрытые блестящими карикатурами на профессоров и студентов. Можно было легко поверить, что те в любых условиях — и на раскопках, и в стенах альма-матер — постоянно попадали в самые нелепые ситуации: перевозя свои находки в городском трамвае, они рисковали потерять… древние черепа, за ними гналась милиция, а бровки курганов едва не падали им на головы…
На столах же сотрудников этой удивительной кафедры можно было увидеть каменные и бронзовые орудия, осколки керамики, разбитой чуть ли не во время борьбы Авеля и брата его Каина, а рядом лежала любовно расправленная берестяная новгородская грамота (иногда с трогательными рисуночками), зажатая меж двух небольших стёклышек. Когда мы с братом были уже подростками и читали только что изданную гениальную книжку Стругацких «Понедельник начинается в субботу», то хохотали не только над феноменальной фантазией авторов, но и узнавая некоторые черты родной для отца кафедры археологии. Ведь там как бы из хаоса непрерывных дискуссий и шутливого прищура глаз рождались новые знания о живших некогда народах и городах, а иногда и отдельных людях, которым довелось вдруг чудесным образом отделиться от своих собратьев, переместиться в другое измерение и стать объектом анализа людей иной цивилизации.
Когда же у Леонида Романовича появился свой домашний кабинет, то облик его время от времени менялся. Неизменным был только любимый друг — письменный стол. То был знаковый подарок, полученный отцом от мамы на заре их семейной жизни. Долгие годы в одном из шкафов на видном месте стояла «лицом», обращённым в кабинет, книга о Пржевальском с его замечательным фотопортретом на обложке. Отец писал как бы осенённый великим путешественником по Центральной Азии, умершим в 1888 году в далёком Караколе. По-видимому, Леонид Романович чувствовал свою тонкую духовную связь с этим незаурядным человеком, его «присутствие» что-то напоминало, укрепляло, а может быть, вдохновляло.
Леонид Романович писал свои труды почерком ясным, наделённым большой выразительностью, хочется сказать, своеобразной красотой. Строчки, правда, размещались очень близко друг к другу — усвоенная в детстве привычка экономить бумагу осталась навсегда. Обладая прекрасной памятью (а это особый драгоценный инструмент для любого гуманитария), отец рано выработал у себя замечательное свойство писать текст почти набело. Позднее вносилась лишь небольшая правка.
Была ли то литературная одарённость? Думаю, да. Но, возможно, эта способность окрепла с чтением лекций (ведь он втянулся в этот особый труд ещё в аспирантские годы) и вообще многообразным общением со студентами, аспирантами и молодыми коллегами, которым надо было ясно изложить сведения, отделить важное от второстепенного и в нужном месте сделать выводы.
Отец самозабвенно рисовал и отдельные предметы, и таблицы, без которых тексты археологов подчас немыслимы. Если вы входили в кабинет, а его хозяина не было за письменным столом, то вы смело могли идти в общую для семьи большую комнату — там, согнувшись над стеклянной поверхностью небольшого столика, сидел папа и рисовал тушью свои бесконечные «калечки». Если же и там его не было, то, значит, он в университете или в редакции. Работал отец постоянно, каждый день и с утра до ночи.
Мама крайне редко предпринимала попытки «приспособить» мужа к хозяйственным делам или отправить его на прогулку. Но если последнее вдруг удавалось, то маршрут был почти всегда один — недалеко от дома (какая удача!) находился магазин «Академическая книга». Там-то Леонида Романовича прекрасно знали все продавцы и радовались встрече — он не только просматривал и покупал новинки, но и непременно рассказывал что-нибудь интересное. Увлечённому человеку часто кажется: то, чем он занят сейчас, и есть самое главное на свете. И все будут намного счастливее, если узнают об этом как можно скорее.
Незабудка в конверте
Если вы думаете, что жизнь ребёнка в семье археолога ничем не отличается от жизни обычной «оседлой» семьи, то вы ошибаетесь. Отличается. И весьма значительно. Наши школьные приятели были детьми математиков, физиков, инженеров и представителей других профессий — жили мы в ведомственном университетском доме, и школа стояла прямо во дворе — окна её выходили на высотное здание университета. Его поблёскивавший на солнышке шпиль сиял нам в минуты радости и «невзгод» (ах, эта арифметика, а потом алгебра!). Мы с братом неплохо представляли распорядок жизни своих однокашников — их отцы обычно проводили с ними выходные дни и, главное, отпуска. Водили своих отпрысков на лыжные прогулки, удили рыбу, собирали грибы, катались на лодках. Да и мало ли что ещё мог придумать хороший отец?
Наш любимый папа исчезал в июне и появлялся в Москве лишь в сентябре, а иной раз и в октябре. В январе он непременно вёз своих студентов в Ленинград — в Эрмитаж на музейную практику. Но даже заикаться о том, что мы тоже мечтаем поехать в экспедицию или посетить город на Неве и хоть одним глазком увидеть все его легендарные чудеса, было невозможно. Почему же нельзя попросить? «Нет-нет-нет! — повторяла мама. — Даже думать не смейте! Отец ра-бо-та-ет, а вы там будете ему только мешать. И нечего плакать в подушку, вот ещё глупости. Забыли? Завтра контрольная!» И ещё одна веская причина, почему надо было с младых ногтей тренировать терпение. Леонид Романович в те годы, бывая в разных частях Центральной Азии, регулярно проводил экспедиции в Туве. Ездили туда из Хакасии, переваливая через Саянский хребет. На откосах узкого в то время серпантина дороги нередко попадались небольшие холмики, на некоторых можно было увидеть баранки-рули, а на дне крутых распадков — исковерканные и ржавые автомобили.
Лето мы втроём с мамой обычно проводили на даче — комнатка с верандой снималась в знакомой деревне. Ну, конечно же, там раздолье, да и приятели, и даже кино иногда привозят, нет, не забыть «Синдбада-морехода», которого крутили в зелёном сарайчике у реки. Но ведь там приключения происходили всё же не с тобой…
Настоящие приключения начинались, когда в конце лета иногда (не каждый год) отец приезжал на недельку побыть с семьёй. И тогда в ускоренном режиме наш маленький отряд одолевал в лесу и в поле основы ориентирования на местности, искал курганы на берегах соседней речки, изучал развалины старого барского имения и так далее и так далее. «Неужели вы можете заблудиться?» — восклицал возмущённый отец. Или: «Как ты не видишь, что здесь раньше стоял дом, ведь только на культурном слое растут такая сочная крапива и иван-чай!» «Чем курган отличается от природного холмика? Смотри внимательней, курган сделан человеком, и у его основания обычно можно увидеть оплывший ровик, из которого брали землю». Но апофеоз «лесных уроков» — изучение окаменелостей. На наше счастье (ну просто нарочно не придумаешь!), сразу за деревенькой, по склону шло узенькое поле, а там уж и лес, и как войдёшь в него, так сразу можно бежать на дно оврага. Вот там-то только успевай смотреть во все глаза себе под ноги на стремительный ручеёк, но главное, в рот отцу. Он рад-радёшенек — и как сказку рассказывает про трилобиты, аммониты, кусочки окаменелых хвощей…
Но заветная та неделька, наполненная общением с отцом, пролетала мгновенно. А всё длинное лето приходилось лишь писать письма в экспедицию. Мама говорила: «Написали? А я припасла незабудки. Если положить в конверт, то папа нас не забудет». Вот такие магические цветы!
Когда же мы с братом превратились в более-менее разумных подростков, нашей «святой обязанностью» стало считывание с отцом его рукописей — ты должен был читать, а отец правил набранное. Судьба машинисток, которые перепечатывали рукописи Леонида Романовича, незавидная. Тексты эти были насыщены редкостными словами, тюркскими, монгольскими, китайскими и иными топонимами, именами и причудливыми названиями археологических культур. Вот это работа! Когда же ты перевирал какое-нибудь особенно колоритное слово, то автор хохотал или строил смешную рожицу. Вообще Леонид Романович часто был открыт шуткам, излучал радость. Написала это и задумалась. Скорее всего, озабоченность, тревога и боль просто вспоминаются реже? А вот то, что иной раз для отдыха папа пел тенором — как можно это забыть? Репертуар его был невелик — вне конкуренции несколько украинских песен. Может быть, их пели в армии? Но, несомненно, некоторые песни он унаследовал от мощного домашнего хора, который когда-то составляли в Абакане члены большой музыкальной семьи Гурницких, певших на нескольких языках и игравших на скрипке и гитаре.
Ирина КЫЗЛАСОВА
Москва
(Окончание следует)